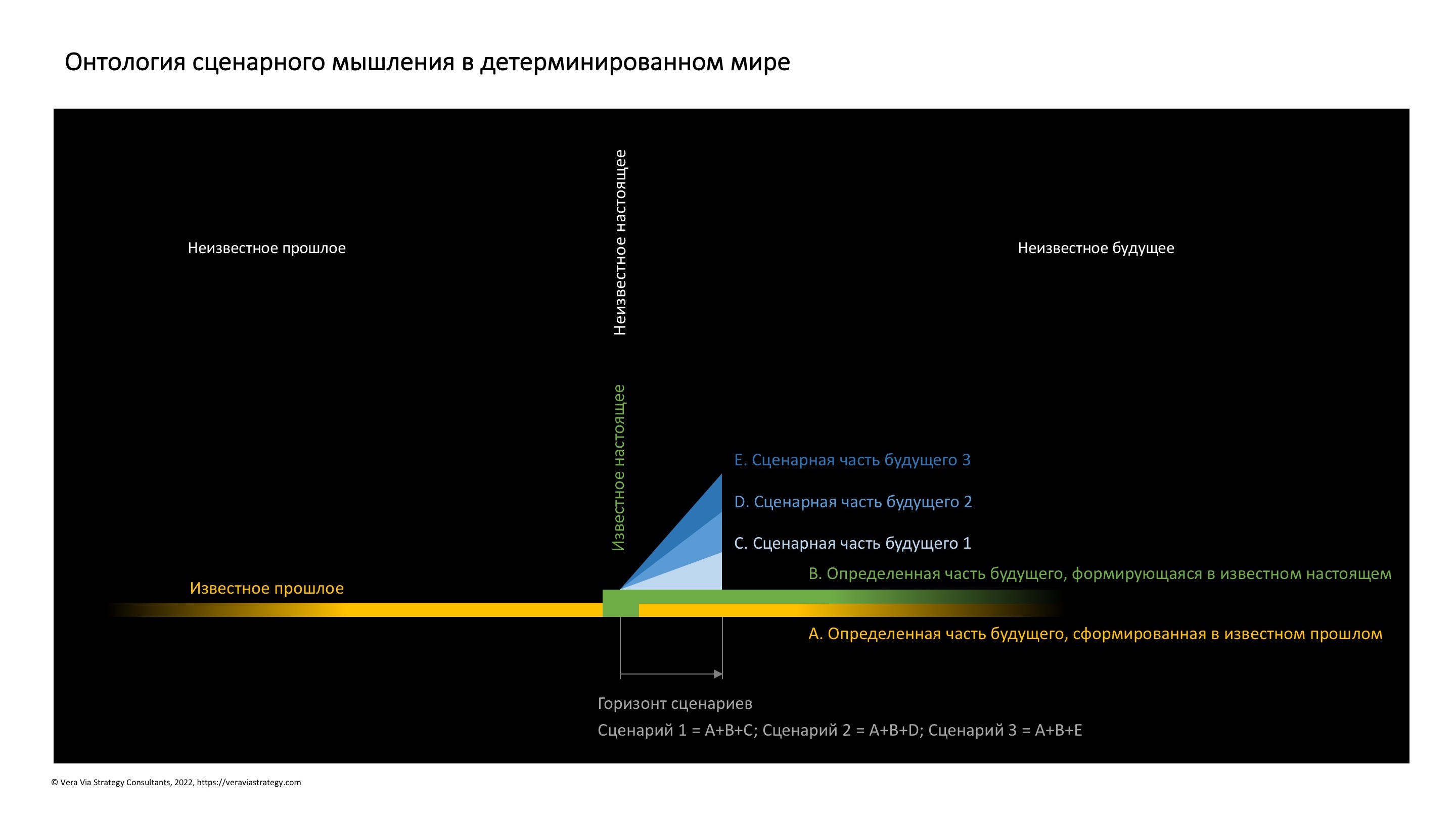У меня имеется бумажная «антицифровая» записная книжка на резинке. Не для секретов, а для всякой всячины, которую я, не задумываясь почему, просто не хочу держать в сети. В этой книжке, помимо прочего, я уже три года обновляю (то есть, пересчитываю при получении новых свидетельств) элементарную формулу Байеса для возможных будущих событий, которые считаю для себя важными. Их пятнадцать. Они разные, плохие и хорошие, повлиять на них я не в состоянии, но могу, так сказать, от них увернуться или воспользоваться ими, если подготовлюсь заранее. Список разношёрстный, но, в конце концов, это моя записная книжка. Меня успокаивает наблюдение за эволюцией субъективной оценки шансов на воплощение того, чего я хочу от мира и чего боюсь.
Бывший министро обороны США Дональд Рамсфелд назвал бы категорию событий, которые я «веду» в записной книжке на резинке, known unknowns – тем, что понятно по характеру, но непонятно по вероятности и времени наступления: не самый поражающий воображение квадрант в его матрице. Философ и математик Нассим Талеб отнёс бы эти события к числу «редких явлений Среднестана», но отнюдь не к великим «чёрным лебедям». Что это означает? Бремя, синюю таблетку реальности. Перед «чёрными лебедями» или перед абстрактно-устрашающими unknown unknowns из матрицы Рамсфелда простительно быть пассивным ироничным фаталистом, поскольку их содержание непознаваемо заранее, а вероятность убаюкивающе «чрезвычайно мала». Поэтому, если тебя придавит коллективным «чёрным лебедем», ты, по крайней мере, сможешь утешиться (если будешь жив), что кругом миллион таких же застигнутых врасплох жертв. Но вот если жизненно важное для тебя событие, природа и вероятность которого были доступны для эвристической оценки, окажется для тебя неожиданной катастрофой, то ты будешь просто ленивым, безответственным и недостойным сочувствия болваном.
Одно из пятнадцати «байесовских» событий в моей записной книжке это «региональная война в ближайшие полгода». Осенью 2019, когда я внёс её в список, априорные шансы этого макро-кошмара были 1:99. К марту 2021 свидетельства, которые я посчитал сильными, сдвинули оценку к 1:19. Недавно, в октябре, я пересчитал её на 1:14. Сейчас она достигла 1:3. Точность тут не важна, важна динамика: за два года угроза выросла в 25 раз. Интуиция и эвристики – рациональны, если служат выживанию.
В январе я написал эссе «Тест портфеля на антихрупкость» [1]. Про бизнес и войну. Сейчас самое время, невзирая на приближающийся новогодний оливье, сесть и подумать, насколько хрупка (или антихрупка) его компания. И не только компания.